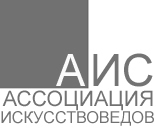Центр имени В.Э. Мейерхольда – одна из самых заметных площадок современной театральной Москвы. Каждый год «Ежегодные Мейерхольдовские встречи» в ЦИМе представляют столичной публике работы всемирно известных режиссеров, добившихся выдающихся успехов в сфере экспериментального, поискового театра.
В первую встречу (декабрь, 2006) зритель увидел спектакль Кшиштофа Варликовского "Крум" по пьесе Ханоха Левина. Вторая – пришлась на сентябрь 2007 года, когда Маттиас Лангхофф привез в Москву "Квартет" по пьесе Хайнера Мюллера. Третьи «Мейерхольдовские встречи» (2008) были посвящены Кристиану Люпе и Старому театру в Кракове со спектаклем "Заратустра". В сентябре 2009 года Центр им. Мейерхольда принимал «Три сестры и другие» Аттилы Виднянского (Венгерский театр им. Дьюли Ийеш в Берегово). За петербургскую постановку пьесы «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира в Александринском театре Мейерхольдовский приз получил литовский режиссёр Оскарас Коршуновас (2010).
Внимательный читатель уже, наверное, заметил частое присутствие польских постановок в программе, что ж этот интерес во многом продиктован тем, что театральный лидер ЦИМа Валерий Фокин многим обязан польскому театру и своему кумиру Ежи Гротовскому.
2011-й год вновь стал годом Польши.
На Шестом фестивале были показаны сразу четыре польских спектакля: «Братья Карамазовы» (театр Provisorium, Люблин), «Да здравствует война!» (Театр имени Ежи Шанявского, Валжбих), «После птиц» (театр Chorea, Лодзь) и моноспектакль Камиля Мачковяка «Нижинский» (Teatr im. Stefana Jaracza, Лодзь).
ДОМ БЕЗ КРЫШИ

Один из наиболее известных и выдающихся в Польше и Европе альтернативный театр «Provisorium» (Люблин), возникший как форма протеста против политической и общественной ситуации, дебютировал в 1976 году. Окончательно утвердил свое имя «Provisorium» лишь с падением советской системы, когда появился самый яркий спектакль «С небес сквозь землю в самое пекло» (1992), признанный критиками как один из самых ярких польских альтернативных спектаклей конца XX века (1-я премия на Эдинбургском фриндж-фестивале).
Говоря о спектакле «Братья Карамазовы», следует отметить сотрудничество театра с известным исследователем творчества Ф.М. Достоевского, профессором Цезарием Водзиньским, автором книг «Транс, Достоевский, Россия, или о топорном философствовании» и «Святой идиот». Возможно, именно встреча с академическим подходом стала решающей для взятого тона. Спектакль «Братья Карамазовы» (реж. – Януш Опрыньский) вызывает удивление своим традиционным постановочным решением. Казалось бы, для авангардного театра такой ракурс неорганичен. Однако по ходу спектакля режиссерское решение оказывается убедительным. Попытки максимально концентрированно представить героев романа, их внутренние конфликты и душевные переживания превращают действие в некую «гоночную трассу», на которой важно проговорить все «проклятые вопросы».
У сценографии подобный характер флажков на этой гоночной трассе: плотно заставленный реквизит, броские остатки материальной культуры в открывающемся Алешей черном контейнере; сценический круг, на который поставлен куб, - дом Карамазовых, - стоит только кому-то распахнуть стенку – залу открывается вид на внутренний угол комнаты: вот столовая – это спальная – тут гостиная (сценография – Ежи Рудзкий, Роберт Кусьмировский). Эта демонстративная «упаковка» быта в общий объем внушает зрителям чувство униженной скученности и перепутанности семейной жизни.
Почти три часа (без антракта) зритель напряженно следит одновременно за всеми героями, не сходящих с круга карамазовских баталий. Это напряжение диктовала качественная игра. Мужские партии (Томас Базан, Яцек Бжезинский, Ромуальд Кренжель, Мариуш Погоновский, Адам Воронович, Марек Жеранский, Лукаш Левандовский) оказались на высоте, особенно блеснули исполнители ролей Ивана и Федора Карамазовых и Смердякова. Диалоги-споры братьев, ненависть и семейная любовь, дружба и ревность, согласие и раздор исполнены мастерски в тонком и очень страстном психологическом накале. А патологический Смердяков поразил и внутренним зловещим рисунком, какой-то мертвенной неподвижностью своим внешним видом (лысый череп, втянутая шея, механический шаг, занудный монстр) блёклый призрак, тихо говорящий что-то в замедленном темпе своим слезливо занудным дискантом, голос тоненький, осторожный, интеллигентный).
Спектакль выстроен как поединок братьев. Если Дмитрий со своей широтой, взвинченностью, горячностью повторяет темперамент своего отца, который со взъерошенной облысевшей шевелюрой, в халате, в одном шлепанце-тапке как исковерканный гаер кается, юродствует и скоморошничает, провоцируя Ивана или беззлобно изгаляясь над Алешей. То бунт смиренного Алеши, взрывающийся стоном, вопрошающий, пытающийся объяснить самому себе и не находящий ответа, вдруг неожиданно отражает все метания, ошибки и ярость отца. Эти внезапные отражения отца в сыне и сына в отце вносят особую ноту смятенности Алеши перед дилеммой о существовании Бога, о чем он блистательно спорит с Иваном.
Беготня, драки, раздоры, разборки поданы, как погода, как нормальная ненормальность жизни (когда избитый Смердяков держит зеркало перед братьями, или когда за дверью где-то на коленях жадно поедается суп), в контрасте даны изнурительный быт и страсть-жажда познания божественного.
Внести свои ноты на равных с актерами-мужчинами, углубить полноту картин не сумели исполнительницы женских ролей (Анастазья Бернад, Каролина Порцари, Магдалена Важеха). Перед нами некое общее уплощение/упрощение образов Грушеньки, Катерины Ивановны, Лизы, где «тщательная старательность» обольщения, пережим ненависти и унижения образовали явный зрелищный крен в сторону недостоверности. Если в сцене Ракитин – Алеша – Грушенька, все-таки дана яркая картина смятения души и жалости очищения, то в дуэте Грушенька – Дмитрий верх берет кривизна искаженной дистанции любви и неверия. Темпоритм нарастает, скорость круга ускоряется, динамика сцен все более уплотняется, обрываясь на крике Ивана, что все «так глупо!» ...
По словам режиссера Януша Опрыньского, в задачу спектакля входило желание «пробудить братьев Карамазовых, а значит – юродивых, святых, безумцев, старцев, чтобы они заставили нас пробудить нашу духовность».
УПАВШИЙ ИКАР

Если карамазовская семья порой и безумствуют, то все же она не безумна и способна давать оценку своим действиям. А вот герой моноспектакля «Нижинский» (авт. сценич. концепции, реж. – Вальдемар Заводзиньски) уже почти поглощен пучиной безумия. Эту картину погружения смысла в хаос замечательно передал польский актер Камиль Мачковяк ... Проблески сознания, прокручивание прошлого, приговор жизни и славы вместились в почти 100 минут. Герой находится внутри стеклянной коробки, где даже сама сцена-пол из прозрачного стекла, а сбоку написанные им страшные в откровенности тексты. Он весь на виду, он всегда – мишень.
Больше Нижинскому ничего не оставлено – лишь балетный станок как призрак былого.
Как выяснилось, танцовщик Камиль Мачковяк мечтал о партиях Вацлава Нижинского еще мальчиком. Уже в балетной школе он станцевал несколько сцен из тех, которыми прославился его кумир. Драматический образ Нижинского актер шлифовал позже и в киношколе, подбирая актерские краски и психологические нюансировки для главной роли своей жизни. И вот, наконец, решился прожить на сцене дни своего кумира из знаменитых «Дневников» великого танцовщика. Дни, когда Нижинский теряет разум.
Эта сосредоточенность принесла свои плоды.
«Я играю Нижинского шесть лет. Внутри уже есть специальная полочка, где находится Нижинский. С тех пор, как мне было 25, спектакль очень изменился. Начиналось все с невротического мальчика, а сейчас он повзрослел вместе со мною», - рассказывает Камиль Мачковяк. Актер вкладывает в образ Нижинского столько личных душевных и физических сил, буквально пропуская через себя, словно электрический ток, жизнь «бога танца», что может играть этот спектакль не чаще двух раз в месяц, а то и реже.
Весь вывернутый, беспощадно откровенный монолог воспоминаний: бесстыдность нахлынувшей исповеди и про свой онанизм и про парижских проституток, про ненавистность к жене, о недоверии к дочери, и тут же патологическая боязнь оказаться брошенным в одиночестве, изнуряющее душу омерзение к любой грязи и вшам. Вот он думает о матери, смертельно тоскуя, обвисает на перекладине, словно Христос или Петрушка; вдруг это обвисшее ватное тело неожиданно становится упругим и упрямым, концентрируя балетную ярость. И тогда герой поражает своим взорванным изнутри состоянием, лицо становится «мутированным», а жизнь, суженная до балетной сцены, становится кровавой ареной. Но разве можно выиграть умирая? Остается только тихо обмякнуть, как тряпка, как шарик из коего вышел воздух, обвиснуть как тряпичный паяц, рухнуть бессмысленно на станок, под тяжестью оцепеневших рук в полной прострации.
«Я бог... танец... тело... кто это сделал со мной..., – рваные клочья памяти, радости и физически невыносимой душевной боли, – ...я работал с Дягилевым, для него Бог – это чувство, а может сам чудовище с чувствами; не думай о том, кого любит Дягилев, мне надо работать...». Видения нарастают, мысли путаются – «Но я знаю, что я не Бог, хочу заснуть,... все бегают, они хотят запереть...». Его внутренний диалог с внешним миром, с близкими, родными, с друзьями – монотонно сопровождается видеокартиной, где пленника психиатрической клиники властно влекут по коридорам, где крупный план лица становится смазанным, и все кружится каруселью, растворяясь в неразличимой пестроте.
Актерски роль Нижинского сделана на высшем уровне психологической убедительности. Идеальная победа Нижинского на сцене оказалась смертельным поражением в жизни...
Горечь мифа о великом танцовщике, который долгие годы жизни провел в психиатрической клинике так ужасна, что бежит от физиологии сценического воплощения, вот в чем мужество моноспектакля. Перед нами еще не душевно больной, а человек вне границ восприятия. И пусть Нижинского-человека можно по-разному трактовать, но шлейф великого Танца до сих пор трепещет и сверкает в балетном мире, и его величие не подлежит сомнению.
Нижинский-танцор остается на пьедестале,... другим же кумирам не повезло.
РАЗДЕТЫЙ ФЕТИШ

Еще в прошлом театральном сезоне скандальный спектакль «Да здравствует война!!!» Драматического театра им. Ежи Шанявского в Валжбихе (реж.-пост. – Моника Стшемпка) хотели привести в Москву на фестиваль «Золотая маска» в рамках программы «Польский театр в Москве». Однако не сложилось: российская сторона настаивала, чтобы в столицу обязательно прибыл автор текста Павел Демирский... Что ж, ЦИМ подобных условий не выдвигал, и театр из шахтерского городка – без драматурга - благополучно оказался на «Мейерхольдовских встречах».
В программке примечание: «Спектакль «Да здравствует война!!!» это наша попытка обрести дистанцию по отношению к польским историческим мифам и политике государства относительно истории, создаваемым очередными государственными и политическими деятелями». Это примечание приводится нами сознательно. Ведь в постановке происходит столкновение и разоблачение сразу двух патриотических мифов разного времени – прошлого (польского кинематографа 1960-х годов) и настоящего (ритуального почитания Варшавского восстания 1944 года, оставленного без поддержки советскими войсками).
В основе пьесы – история популярного телефильма «Четыре танкиста и собака», которая смешана с темой трагического Варшавского восстания. Этот коктейль эпох устроен намеренно. Перед нами поле абсурда, где встроены друг в друга сразу три временных слоя – 1944-й год (дни Варшавского восстания), 1968-й год (студенческие протесты в Варшаве) и сезон 2009-2010 гг. (время премьеры спектакля). Авторы спектакля с самого начала раздевают догола своих и без того развенчанных героев. Это – Ян Кос, герой-танкист сериала, и премьер-министр польского правительства в изгнании Станислав Миколайчик (на приеме у Сталина 3 августа 1944 года) требующий «чтобы польская армия взяла Берлин!» и получивший издевательский ответ: «взятие поляками Берлина выходит за рамки бюджета»....
Шаг за шагом само действо превращается в некий новый сериал – вакханалию эпизодов повального пьянства, густого мата, беспорядочной стрельбы и машинального насилия. В этом сериале сценаристом безумия выступает Сталин, статистом – премьер Миколайчик, а пес Шарик становится офицером НКВД. В эпизодах спектакля доминирует алогизм отношений – посыл о том, что война всего лишь способ существования, где голизна актеров лишь усиливает гротеск происходящего. Границ между персонажами нет. Каждый исполнитель мгновенно меняет свои роли (в ролях: Агнешка Кветневская, Малгожата Лакомская, Ирена Войчик, Анжей Клак, Марцин Пемпуш, Рышард Венгжин, Адам Воланчик).
Но если фигура Миколайчика нам практически неизвестна, то уж сериал «Четыре танкиста и собака», когда-то очень популярного и в Польше и в СССР, - это наша общая память. Чем не угодила лихая комедия о славных парнях нынешним критикам? Тем, что это ложь? Что на самом деле, реальная правда войны в тысячу крат страшнее? Непритязательную комедию о танкистах с собакой распяли поляки. Даже для собаки-актера нашлось место. Старается, воет, лает, повизгивает. А в конце не выдержав, хватается за пистолет и требует соблюдать минуту молчания. Вышучивать собаку? Раздеть и высечь проигравшего премьера?
Все-таки неубедительно и странно освистывать жанр. Комедия о танкистах не претендует на истину, поэтому она и не лжет, не лакирует действительность, она всего лишь смешит и только. Вот рядовой поляк танкист на сцене явлен миру дамой афроамериканских кровей в военной форме (Агнешка Кветневская)... если этот спектакль метит в индустрию квази фильмов о квази войне, то и тут все мимо цели. Демонстративный прицел авторской мысли, вожделение свести к нулю роль национальной самоидентификации, жажда высмеять польскость, а заодно потешиться над природой жанра ведет театральное зрелище в эстетический тупик, сбивает спектакль в бутафорский хэппенинг: болтовня в банных халатах, измазанных бутафорской кровью, персонаж в красном джемпере, затаскивающий даму в туалетную комнату, заявление голой особы, что ее обвиняют в нежелании репродуцироваться. Трусы летят в зал.... В чем смысл навязчивой параллели «кино» — «стриптиз»?
Между тем эту вакханалию то и дело комментируют строгие экранные надписи: «5 августа 1944, Студянки, 1-я танковая дивизия форсирует Вислу»; «Весна 1968, центр Варшавы»... За каждой такой скупой датой встает панорама мирового побоища. И память ёжится; не до смеха как-то.
«Война аморальна в любой момент, неважно, сколько времени прошло, и столь же аморально продолжать молчать, продлевая жизнь национальных сказок и героической лжи», — считает автор драматург Демирский. На его взгляд, навязанные мифы это террор культуры. Однако существенная разница между обвинением самой войны и ее «культурной производной». Квази культура времен войны и культурное эхо послевоенного времени несовместимы по самой природе постава. Пересмотр истории через призму когда-то популярного сериала не самое удачное решение. Документальная правда о любой войне и художественная истина – суть вещи разные по определению. А авторский террор от Демирского ничем не отличен от террора официальной истории.
Что ж, смелость, с которой выбрасываются на свалку прошлые победы, заслуги, исторические события привлекает публику в театр и даже импонирует многим. Провокативность сценической темы, конечно же, не может оставить равнодушным нашего зрителя, часть московской театральной аудитории буквально покатывалась со смеху. Однако смех в провокативном спектакле говорит только о том, что он имитирует остроту, а не задевает запреты и не разрушает табу. На самом деле перед нами очередная попытка мумифицировать прошлое только на другом уровне оценки: там варшавское восстание было трагедией, здесь станет фарсом, там был жертвенный героизм, что ж, сорвем с него все погоны и ореолы... Список таких тенденциозных превращений легко продолжать... просто меняйте плюс на минус...
Семейный тандем Павел Демирский и Моника Стшемпка уже собрал лавры по всей Европе, что не удивительно, – радикализм давно самое любимое блюдо в культурных точках Европы. И все же это больше имитация вызова, игра в острые блюда. Высмеять давно умершего Миколайчика (1966), развенчать невинный сериал времен польского социализма (кстати, тоже вышедший в 1966-ом) безопасно и слишком просто. Между тем, всего лишь за неудачную полуминутную шутку о том, что «я понимаю Гитлера», режиссер Ларс фон Триер был изгнан с Каннского фестиваля. А создатель славы парфюмерного дома Guerlain — 75-летний Жан-Поль Герлен за одно обмолвленное слово в своем рассказе о духах Samsara расплачивается публичными извинениями и судом.
Проблема в том, что сегодня гораздо опасней кого-нибудь или что-либо защищать, чем освистывать, распинать, разоблачать, раздевать донага... Вот повод подумать, поразмышлять для господ театра деструкций. По сути, перед нами не театр, а супермаркет по продаже пощечин. Одним словом, сегодня попытка любой ценой избавиться от прошлых мифов, пожалуй, становится новым абсурдом. Потому что оплатой подобных мифических деструкций становится успех. Но известность, аншлаги, приглашение на гастроли, слава самых острых самых ярких революционеров в искусстве не может сопровождать истинный не имитированный вызов. Согласитесь, вызов по своей онтологической структуре не может быть предсказуемым.
История истинного вызова - это бесконечный мартиролог жертв, вспомним, хотя бы Нижинского, его последний танец зимой 1919 года в Сан-Морице в отеле «Сювретта-хаус», когда он раскинувший руки, словно живое распятие, наполнил комнату страдающим человечеством: «Теперь я покажу вам войну со всеми ее страданиями, разрушениями и смертью. Войну, которую вы не предотвратили и за которую вы тоже в ответе». Меньше всего он хотел крикнуть «да здравствует война». И заплатил – своим безумием – страшную цену.
Ирина РЕШЕТНИКОВА